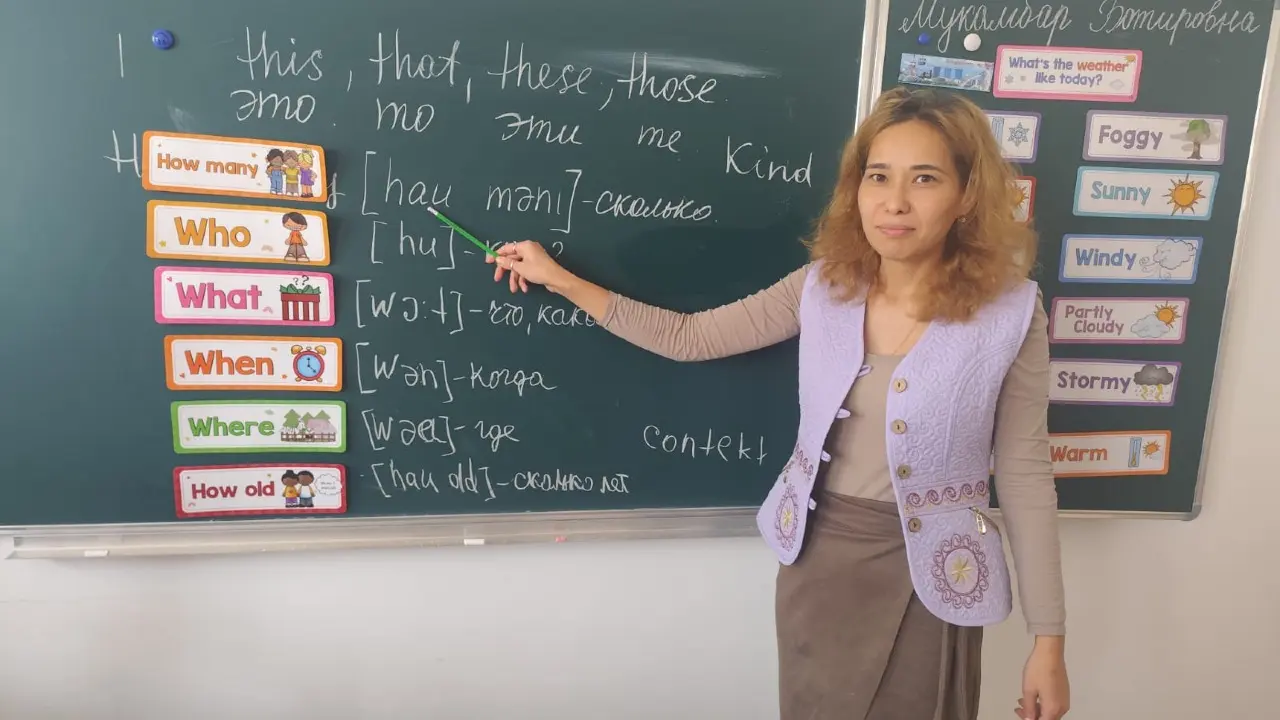В интервью Алма Бектурганова-Андерсен – казашка, уже двадцать лет живущая в Дании, рассуждает о том, как скандинавская модель воспитания формирует уверенных и счастливых детей.
Она объясняет, почему в школах Дании не ставят оценок до седьмого класса и не сравнивают учеников между собой, как родители учатся доверять и отпускать и почему любовь и свобода – главные опоры детства.
Кроме того, Алма говорит о том, как устроена забота о пожилых в Дании, о равенстве в семье, о своём проекте для пожилых мигрантов и о настоящем смысле "хюгге", которое обычно понимается просто как состояние тишины и уюта. Она также ведёт популярный блог о жизни в Европе, где делится наблюдениями о датской культуре, воспитании и социальной системе.
– Алма, расскажите, как вы оказались в Дании и что вас сильнее всего поразило в первые месяцы жизни там?
– Я училась в Высшей комсомольской школе в 1981 году и именно там встретила своего будущего мужа – датчанина, который приехал на десятимесячные курсы. Мы познакомились, между нами завязался роман, но пожениться тогда было невозможно: в советское время брак с иностранцем означал, что домой ты уже не вернёшься. У меня были пожилые родители, о которых нужно было заботиться, и, конечно, я не могла уехать. Поэтому нам пришлось расстаться на долгие двадцать лет.
Через два десятилетия, когда у Яна трагически погибла жена в автомобильной аварии, он начал переосмысливать жизнь и вспомнил о нашей молодости. В то время я активно участвовала в казахском женском движении, поэтому найти меня через интернет оказалось несложно. В 2003 году он написал мне письмо, и мы вновь встретились.
Мы увиделись в Москве на юбилее нашей комсомольской школы. Я приехала туда со своим сыном, чтобы он познакомился с Яном. Нам важно было понять, есть ли между ними взаимопонимание, смогут ли они поладить. Моему сыну Ян сразу понравился, и вскоре я приехала в Данию – всего на десять дней, чтобы познакомиться с его семьёй. У него было три дочери, и, встретив их, я почувствовала, что всё у нас получится. Так я вышла замуж и переехала в Данию.
– Вы говорили, что в Дании по-другому воспринимают неполные семьи, чем в Казахстане. Но испытывали ли вы какие-то опасения перед переездом и какие различия в отношении к семье и браку вы заметили уже там?
– На постсоветском пространстве в медиа часто повторяется миф будто в Европе умирают семейные ценности и семья давно перестала быть приоритетом. Возможно, именно поэтому я согласилась на это интервью – чтобы развеять не просто стереотип, а, на мой взгляд, очень опасное заблуждение.
Конечно, я не могу говорить за всю Европу, но в Скандинавии, и особенно в Дании, семья стоит на первом месте. Семейные ценности охраняются государством не на словах, а на деле. Например, в Дании для родителей с детьми предусмотрены обязательные отпуска во время школьных каникул – осенних, зимних и летних. И отпуск предоставляется не одному из родителей, а обоим: и отцу, и матери, чтобы они могли проводить как можно больше времени с детьми. Это не просто поощряется, а закреплено на государственном уровне.
Отношение к семье проявляется и в других аспектах. Если супруги разводятся, родительские права в любом случае сохраняются за обоими родителями. Это не так, как в странах постсоветского пространства, где после развода вся ответственность обычно ложится на мать, а отец часто исчезает из жизни ребёнка. В Дании государство контролирует, чтобы оба родителя участвовали в воспитании, и потому там практически нет понятия "неполная семья". Нет матерей-одиночек, нет отцов-одиночек, есть просто разведённая семья, где ребёнок часть времени живёт у отца, часть у матери.
Такой подход формирует иное восприятие отношений. Мужчина никогда не воспринимает женщину с ребёнком как обузу: это естественная часть её истории, как и его собственная. У взрослого человека, как правило, тоже есть дети, и они становятся частью новой семьи. Поэтому вопрос "принимать или не принимать ребёнка партнёра" просто не стоит.
В Дании даже язык отражает это отношение. Там не употребляются слова "отчим" или "мачеха", они вышли из употребления. Мужчина, который женится на женщине с детьми, не становится отчимом, он просто муж их матери. И наоборот, новая жена мужчины не мачеха его детям, а просто жена их отца. Это, на мой взгляд, очень показательно: в языке закреплено равное, уважительное отношение ко всем членам семьи.
– Мы заговорили о семейных ценностях. А как в Дании относятся к пожилым людям? Заботятся ли о них взрослые дети или пожилые в основном живут самостоятельно – особенно те, кому уже за 70–80 лет?
– В самом вопросе уже заложен стереотип, и именно это опасно – судить о другой стране исходя из своих представлений о жизни. На постсоветском пространстве и в Европе совершенно разное отношение к понятиям "свобода" и "личное пространство". В наших странах люди просто не знают, что это такое – быть самим собой. Мы выросли под постоянным давлением государства, общества, окружения. Это проявляется даже в бытовых мелочах.
А в развитых странах личное пространство – огромная ценность. В Дании, например, дети обычно съезжают от родителей сразу после окончания гимназии, в 15–16 лет. Мой сын поступил так же, как и все его друзья: они сняли квартиру неподалёку от нас, через улицу, и жили своей жизнью. Это нормально.
Представь: дети уехали, родители остаются вдвоём. К 40–50 годам большинство людей уже живут отдельно. Им исполняется 70–80 лет, и они по-прежнему самостоятельны. Это бодрые, активные люди. И вот теперь что, по-твоему, должно происходить? Чтобы через 30 лет после самостоятельной жизни пожилые вдруг снова съехались с взрослыми детьми? Это невозможно. И даже вредно. Для всех сторон.
Я вижу это на примере беженцев из Украины. Например, моя одноклассница из Казахстана всю жизнь жила в Харькове. Когда началась война, она приехала к сыну в Данию, где тот жил со своей семьёй. Муж вскоре умер от рака, и она осталась с сыном и невесткой в одной квартире. Им всем было тяжело: две хозяйки на одной кухне, три взрослых человека, каждый со своими привычками. В итоге она переехала в отдельное жильё и только тогда почувствовала себя снова спокойно. Таких историй много. Люди, привыкшие к самостоятельности, просто не могут уживаться в одной квартире.
И вот здесь важно понять что значит заботиться о пожилых? Подать стакан воды? Приготовить обед? В Дании забота устроена иначе, через систему. Когда человек уже не может справляться сам из-за возраста, болезни, потери памяти, он переезжает не в дом престарелых в привычном понимании, а в дом заботы. Это уютное место, где у каждого есть две собственные комнаты, обставленные своей мебелью, своими вещами и картинами. Человек живёт в знакомой обстановке, просто под наблюдением персонала, который помогает с бытовыми мелочами: следит за безопасностью, помогает с питанием и здоровьем.
Это не изоляция и не отказ от семьи. Это форма уважения к человеку, который привык быть самостоятельным и хочет сохранять своё достоинство. Поэтому в Дании никто не считает, что пожилых "оставляют". Наоборот, им дают возможность жить так, как они привыкли: свободно, спокойно и без стресса.
– Вы сами прошли через опыт ухода за пожилыми родителями. Как это отразилось на вашей позиции?
– В Казахстане я жила в трёхкомнатной квартире вместе с родителями. Оба умерли у меня на руках. И только после этого я смогла позволить себе переехать.
Я ухаживала за ними, и тогда моему сыну было всего пять-семь лет. Я сказала ему: "Сын, запомни, я никогда не буду жить с тобой в старости. Если я стану больной или немощной, пожалуйста, отправь меня в дом престарелых. И не чувствуй вины за это". Я тогда взяла с него слово, с пятилетнего ребёнка. Потому что я знала, что это ужасно, когда вокруг нет условий, нет поддержки, нет системы, которая помогает пожилым людям.
Я хорошо помню свою маму, когда у неё началась деменция. Она всё время хотела есть, забывала, что только что поела, терялась. В памяти осталась не сильная боевая женщина, которая меня воспитала, а угасающая беспомощная старушка. Это страшно. Я врагу не пожелаю такого.
Поэтому я всегда говорю: не нужно осуждать людей, которые решают иначе, кто отправляет пожилых родителей в дома заботы. В наших условиях часто просто некуда деваться. Нет инфраструктуры, нет адаптированных квартир, нет специалистов. И потому семья вынуждена брать на себя непосильную ношу. Вот это – настоящая беда, а не "недостаток любви" к старикам.

– Расскажите, пожалуйста, о своем проекте "Визит на родном языке". Как возникла эта идея?
– Я возглавляю общественную организацию, которую создала сама. Это полностью добровольное объединение без штатных сотрудников, зарплат или офиса. Организация появилась двадцать лет назад, когда я познакомилась с женщинами, переехавшими в Данию во взрослом возрасте в основном по семейным причинам. Среди нас женщины из Мексики, Турции, Боснии, Японии и других стран. Мы поддерживаем друг друга, делимся знаниями о жизни в Дании, помогаем в сложных ситуациях и просто не даём чувствовать себя одинокими.
Со временем мы обратили внимание на то, как живут пожилые люди в Дании, как именно они доживают жизнь, в каких условиях и с каким качеством жизни. Это слово – "качество" в постсоветских странах редко используется применительно к старости: там важнее выжить, чем жить достойно. В Дании же уровень и качество жизни пожилых людей – часть государственной политики.
Мы заметили, что с возрастом, особенно при деменции, люди начинают забывать иностранный язык. Память хранит детство, а вместе с ним и родную речь. Поэтому в домах заботы появляются пожилые мигранты, которые уже не могут говорить по-датски, но помнят язык своего детства. Они часто оказываются в изоляции: персоналу трудно найти общий язык в буквальном смысле.
Тогда мы решили сделать то, что можем сами. Два раза в месяц наши волонтёры навещают таких пожилых людей и разговаривают с ними на родном языке, просто приносят радость и внимание. Так появилась эта инициатива, и Копенгагенская коммуна поддержала нас официально, предоставив финансирование.
– Ваш проект связан с поддержкой мигрантов. А как вы сами проходили этот путь интеграции – учёбы, новой профессии, работы?
– Я приехала в Данию, когда мне было 45 лет. У меня уже был опыт работы, багаж знаний и активной общественной деятельности, но, конечно, всё пришлось начинать заново. В Дании, к счастью, образование можно получать в любом возрасте. Здесь нет ограничений, и можно сменить профессию даже после пятидесяти.
Первым шагом для меня стал язык. Когда иностранцы приезжают в страну, они заключают с государством интеграционный контракт, где прописаны права и обязанности обеих сторон. Тогда, в начале 2000-х, государство оплачивало трёхлетние курсы датского языка. Я училась всё это время бесплатно, сдавала экзамены на каждый уровень. Эти три года у меня не было дохода, я полностью зависела от мужа, но зато получила прочную языковую базу.
После этого я хотела получить дополнительное образование, освоив профессию административного работника, чтобы работать, например, на ресепшене в гостинице или компании. Моё образование – учитель русского языка и литературы – в Дании признали, но очевидно, что применить его здесь было невозможно.
Перед тем как поступать, я пошла в школу для взрослых – это особая форма обучения, где можно доучить нужные предметы и затем поступить в вуз или колледж. Я выбрала три дисциплины на уровне 10 класса: датский язык, обществоведение и компьютерную грамотность. И, что удивительно для казахстанских реалий, за обучение там не только не нужно платить – студентам даже назначают стипендию. Полгода я занималась в этой школе, подтягивая язык и осваивая компьютер, ведь в 2004 году я ещё не умела работать с Excel или PDF-файлами.
После этого я собиралась идти учиться на офисного администратора, но именно тогда Копенгагенская коммуна запустила пилотный проект: создала несколько рабочих мест для специалистов с высшим образованием, недавно переехавших в страну и ещё не владевших датским языком на академическом уровне. Одно из таких мест я получила по конкурсу, на моё место претендовало около 70 человек.
Так я начала работать консультантом в Копенгагенской коммуне по вопросам деятельности общественных организаций мигрантов. Я обучала их тому, как правильно оформлять проекты, искать финансирование, проводить культурные мероприятия. Проработала в этой должности 12 лет. Через год организация, в которой я работаю консультантом по работе с общественными организациями – Дом всемирной культуры Копенгагенской коммуны, – получила приз Министерства интеграции за вклад в интеграцию. Награду вручала кронпринцесса Мэри.
Моя активная позиция и опыт участия в женском движении в Казахстане очень помогли мне адаптироваться. Я быстро поняла приоритеты датского общества и почувствовала себя своей. Поэтому, когда слышу жалобы на то, что "датчане нас не принимают" или "относятся предвзято", я не соглашаюсь. Всё зависит от того, с каким настроем ты входишь в новое общество. Я никогда не стояла с протянутой рукой и не ждала, что кто-то мне что-то должен. Именно это, думаю, и помогло мне встроиться в новую жизнь.
– В своём блоге вы говорите, что "счастье – это не соревнование". Как вы пришли к этому пониманию?
– К сожалению, у нас, на постсоветском пространстве, конкуренция – это часть повседневной культуры. Это следствие тоталитарного прошлого: нам с детства внушали, что нужно всем и всегда что-то доказывать – соседям, родственникам, обществу. Это проявляется в мелочах: у кого лучше платье на выпускной, какая свадьба, кто громче заявит о себе. Мы постоянно соревнуемся и даже не замечаем этого.
В Дании всё иначе. Там с раннего детства, начиная с яслей и детского сада, детям объясняют: каждый уникален и не нужно равняться на других. Нет установки "быть как все". Люди воспитываются в духе личной автономии: у каждого свои способности, свои интересы, и это нормально, если они разные.
Я это увидела на практике. У меня была знакомая, выпускница педагогического училища из Киева – человек очень творческий, с отличным базовым образованием. Она приезжала в Данию и пробовала работать помощником воспитателя, но контракт с ней трижды не продлевали. Сначала она считала, что причин в предвзятости или расизме. Но когда мы поговорили глубже, она рассказала случай, который многое объяснил.
Она делала так: вырезала образец снежинки и просила детей повторить его ровно так же. Датские коллеги приходили в шок: для них не было задачи сделать одинаковые поделки. Им важно было показать детям инструменты – ножницы, бумагу – и дать свободу экспериментировать, творить по-своему. В Дании ценится процесс, а не точное копирование образца.
Эта история хорошо иллюстрирует разницу: мы привыкли к модели "сделай как я", а там учат "делай по-своему". Отсюда и мысль: счастье – не соревнование. Нельзя измерять свою жизнь по успехам других. Каждый человек развивается в своём темпе, и стремление доказать кому-то свою ценность ведёт лишь к выгоранию, а не к счастью.
– Сколько поколений должно сменить друг друга, чтобы мы тоже пришли к такому пониманию? Ведь казахстанские родители часто продолжают воспроизводить те же установки, что и раньше.
– Я не могу дать рецепт для Казахстана. Если начать воспитывать ребёнка по датской модели, он, возможно, просто не выживет в вашей реальности. Поэтому я никогда не даю советов, как "правильно". Я знаю одно: ребёнку нужны две вещи: любовь и свобода. Любовь – чтобы он всю жизнь чувствовал за спиной прочный фундамент, но не избалованность, которая часто встречается у нас. И свобода – чтобы он мог развиваться, делать выбор сам, не быть управляемым взрослыми.
У вас часто считается, что ребёнку нужно заполнить каждый час: секции, кружки, соревнования. Но это не развитие, это перегрузка. Такой ребёнок растёт в постоянном контроле, и когда вырастает, не чувствует себя самостоятельным. Если у него есть любовь и свобода, он справится, выкарабкается, потому что будет стоять на этих двух опорах.
– То есть в Дании нет привычки отдавать детей во все возможные секции?
– Нет, конечно! Это было бы странно. Когда я приехала, у моего мужа было три дочки и все ходили на гимнастику. За четыре года я не увидела никаких "результатов" в нашем понимании. Они не садились на шпагат, не стремились к рекордам. Но я видела другое: они были счастливы. И даже полная девочка, которую у нас бы не взяли в секцию, участвовала в выступлениях, танцевала, смеялась, чувствовала себя уверенно. Никто не ломал её психику ради идеала.
Всё делается с любовью. Здесь не нужно быть "лучше других". Датчане вообще не мыслят в категориях соперничества ни в спорте, ни в жизни, ни даже в национальной гордости. Они не говорят: "мы датчане, мы лучшие". Когда узнаёшь, что какое-то важное изобретение сделали именно здесь, и спрашиваешь: "А почему об этом никто не знает?", они искренне удивляются: "А зачем миру знать? Главное, что это полезно".
И вот это ключевое различие: человек не должен быть лучше кого-то. Он просто должен быть собой. Это уважение к индивидуальности, которое пронизывает всё – от воспитания до образа жизни. Этому предстоит научиться.
– Скажите, вы помогали сыну с выбором профессии, подсказывали направление?
– Никогда в жизни. Когда мы приехали в Данию, сын должен был идти в шестой класс, но сначала он учился полтора года в специальной школе для детей-иностранцев. Там упор делается на изучение датского языка, хотя изучаются и остальные предметы. После этого он должен был перейти в обычную школу и по возрасту попадал уже в восьмой класс. Но я как типичная советская мама всё-таки настояла, чтобы он пошёл в седьмой. В этом классе как раз начинается изучение второго иностранного языка, у него это был немецкий, и я боялась, что иначе ему будет слишком тяжело догонять программу.
Он до сих пор шутит, что не простил мне это "понижение", но, по сути, дальше он всё делал сам.
В датских школах первые оценки ставятся только с седьмого класса. До этого ребёнка вообще не оценивают, чтобы он развивался вне конкурентной системы. А сами оценки вводятся не для сравнения, а чтобы понять, какие предметы ребёнку ближе и где у него способности.
С родителями здесь общаются иначе: два-три раза в год приглашают на короткое собеседование, где рассказывают, чем ребёнок интересуется, что у него получается. Никто не говорит: "По этому предмету у него двойка". Здесь вообще нет представления, что всё должно получаться одинаково. Оценивается не успеваемость, а интерес и усилие. На эти встречи чаще ходил мой муж – я, честно говоря, почти не вмешивалась в процесс.
Когда пришло время выбирать гимназию (аналог старшей школы), сын сам выбрал три варианта: спортивную, модерновую и классическую. Мы сходили во все, обсудили, и в итоге он выбрал классическую. После гимназии он решил стать политологом.
В Дании все выпускники гимназий получают место в университете, просто распределение зависит от среднего балла. Сначала он поступил в один из новых экспериментальных университетов, но через несколько месяцев понял, что это не его формат. Тогда он подтянул один предмет в специальной школе для взрослых и поступил в университет в Орхусе – это классический сильный вуз.
Мы помогли ему только с переездом и обустройством в общежитии. За три года я приехала туда всего один раз, просто посмотреть, как он живёт. После получения бакалавра он перевёлся в Копенгагенский университет, окончил магистратуру по политологии и сейчас работает консультантом в одном из министерств. Всё это его личный путь, без нашего давления и подсказок.
Иногда он присылал мужу тексты на проверку, где-то подправить грамматику, но на этом наше участие заканчивалось. Всё остальное он делал сам. И так же все три дочери моего мужа. Каждый ребёнок сам выбирает свой путь, а родители просто рядом, если понадобится поддержка.

– Получается, что в Дании у человека есть возможность реализоваться на любом этапе жизни, и поэтому дети растут спокойными, без страха "не успеть". Вам самой было легко адаптироваться к такому подходу – к тому, что ребёнка не нужно подгонять, что можно просто доверять?
– Мне это было абсолютно несложно. Наверное, потому что я и сама во многом разделяла такие взгляды ещё до переезда. Во-первых, я хорошо знала скандинавскую модель – читала о ней, интересовалась. А во-вторых, у меня с детства были похожие принципы. Когда я приехала и увидела, как мой муж Ян воспитывает своих трёх дочек, я поняла, что наши подходы практически совпадают. У нас были одинаковые ценности – уважение к личности ребёнка, вера в его самостоятельность.
К тому же я ведь сама когда-то работала в гимназии педагогом-психологом и вела курсы личностного роста. У нас была уникальная школа, где психология преподавалась с первого по одиннадцатый класс. Мы много говорили с детьми о свободе, о самоопределении, о внутренней опоре. И когда я оказалась в Дании, я просто увидела всё это в действии на уровне системы. Поэтому мне не пришлось перестраиваться.
А вот многим женщинам из постсоветских стран было очень трудно. Они продолжали требовать от детей "пятёрок", ежедневно проверяли дневники, вмешивались во всё, что связано со школой. Для них датская система казалась хаотичной и "безответственной". Они не видели в ней смысла, потому что не понимали её базовой ценности – свободы и доверия.
Некоторые так и не смогли адаптироваться. Это, на мой взгляд, вопрос внутреннего кода: у человека либо есть потребность в свободе, либо в нём живёт рабская психология – привычка подчиняться и контролировать других. Это ужасно, потому что тогда человек не только сам несвободен, но и лишает свободы своих детей.
Но я хочу подчеркнуть: у казахстанцев, особенно у казахов, этого изначально не было. В нас генетически нет этой рабской покорности, она пришла в советский период, когда всех пытались подогнать под один стандарт. Казахстанцы очень мобильные, любопытные, открытые к новому и это сильно помогает адаптироваться.
Я вижу, что наши соотечественники в Дании прекрасно себя чувствуют. Да, кто-то проходит этот путь сложнее, кто-то легче, но в итоге почти все находят своё место. Наверное, потому что в нас живёт интерес к миру и способность меняться.
– У меня вопрос о датском хюгге. Я видела целую книгу, посвящённую этому феномену. Как вы сами понимаете это слово?
– Я читала несколько книг про хюгге, даже писала об этом пост. Особенно запомнилась книга англичанки, которая переехала из Лондона в маленький датский город, где производят Lego. Представь: человек из шумного мегаполиса, из глянцевого журнала и вдруг жизнь в провинции. Сначала ей было трудно, но со временем она поняла, что именно там впервые почувствовала спокойствие и смысл. Она родила ребёнка, отказалась возвращаться в Лондон и захотела, чтобы дети учились именно в датской школе.
Так вот, хюгге – это не просто уют, хотя дословно слово так и переводится. Для меня это умение быть собой, создавать комфорт и радость в мелочах, не подстраиваясь под чужие стандарты. Уют не навязан обществом, он рождается из внутреннего ощущения гармонии.
Я люблю бывать в датских домах: они все разные, непохожие. Да, у всех есть базовые вещи – свечи, мягкий свет, пледы, – но в остальном каждая квартира отражает личность хозяина. Это и есть хюгге, когда тебе спокойно в своём пространстве, потому что ты живёшь в нём, а не ради впечатления других.
По сути, хюгге – это радость от повседневной жизни, от момента "здесь и сейчас". Не гонка за успехом, не соревнование, а спокойная уверенность в том, что всё идёт как должно. Именно поэтому датчане считаются одними из самых счастливых людей в мире. Их счастье не во внешних атрибутах, а в чувстве защищённости, уюта и внутреннего равновесия.
– Спасибо, Алма. Мне кажется, вы очень точно описали то, чего многим из нас не хватает.
– Пусть каждый, кто прочитает, просто подумает: жизнь одна и она – своя. Не нужно гнаться ни за кем. Нужно просто получать удовольствие от того, что у тебя уже есть. Вот, пожалуй, и есть настоящий hygge.
-
1❗️«Британский инвестфонд» оказался финансовой пирамидой
-
3763
-
0
-
26
-
-
2✈️ В аэропорту Алматы начали реконструкцию главного входа
-
3760
-
1
-
15
-
-
3🇺🇦 Зеленский готов отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности.
-
2729
-
4
-
60
-
-
4💰 Зарплата для домохозяек: Индия проводит крупный социальный эксперимент
-
2730
-
7
-
84
-
-
5👮♀️ Жёсткие меры ввели, чтобы защитить леса в период повышенного спроса на хвойные деревья к Новому году
-
2933
-
1
-
31
-
-
6🏞 Где отдохнуть зимой в Казахстане: восемь лучших мест Алматинской области по версии Минтуризма
-
2829
-
0
-
7
-
-
7🚗 В Абайской области больше 30 машин незаконно прорвались через блокпосты, выставленные из-за непогоды.
-
2741
-
5
-
21
-
-
8👮♂️💵 Водители, смотрите, на новой линии BRT в Алматы уже начали штрафовать нарушителей
-
2506
-
1
-
15
-
-
9😔 Умер пианист и телеведущий Левон Оганезов
-
2400
-
1
-
58
-
-
10⚡️Айбек Смадияров получил должность в Администрации президента
-
2370
-
0
-
123
-
 USD:
517.3 / 519.9
USD:
517.3 / 519.9
 EUR:
605.5 / 610.5
EUR:
605.5 / 610.5
 RUB:
6.45 / 6.57
RUB:
6.45 / 6.57