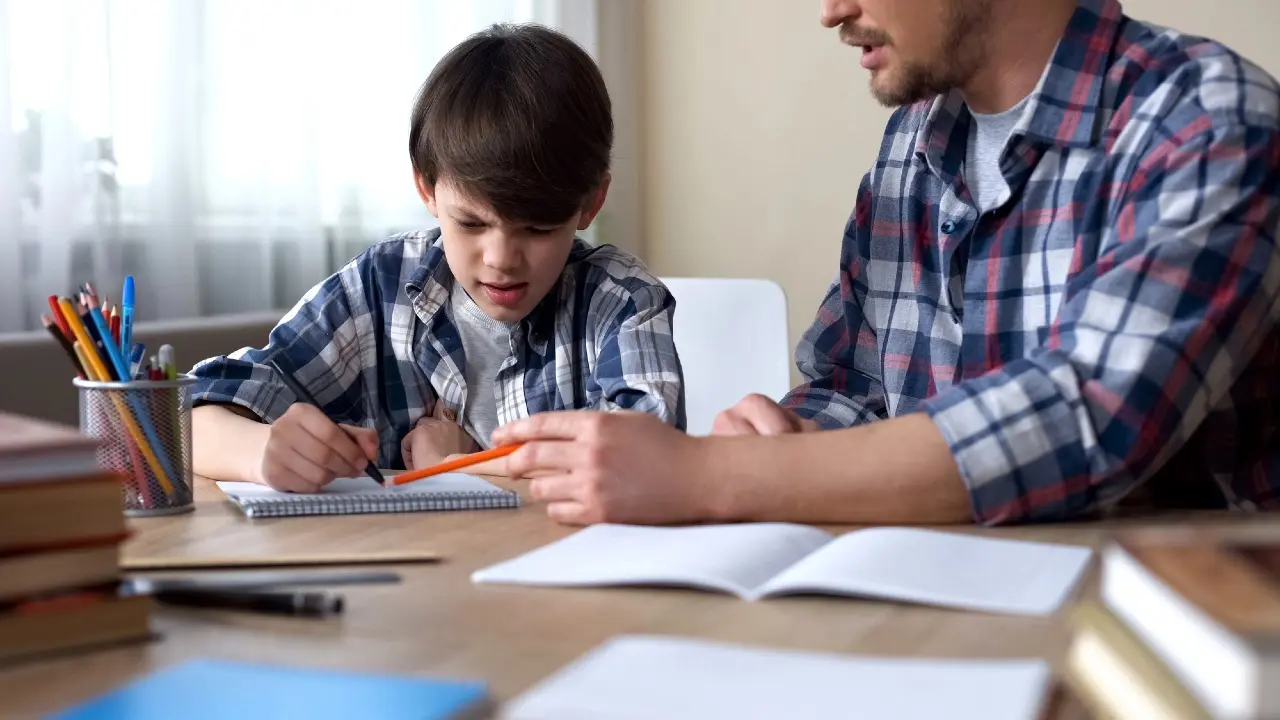Елена Данилова – клинический психолог, педагог, специалист по трудностям обучения, автор книги "Вопреки всем трудностям", основатель Dyslexic Homeschool – единственной школы в Казахстане с государственной дотацией, полностью адаптированной под потребности детей с дислексией. Больше десяти лет она работает с детьми, помогает им адаптироваться в учебной среде и успешно справляться с особенностями восприятия информации.
Личный опыт – трое собственных детей с дислексией – стал для неё главной мотивацией углубиться в эту тему и создать эффективную систему помощи.
В интервью эксперт рассказала, почему двуязычная среда в Казахстане может способствовать проявлению дислексии, какие специалисты действительно помогут ребёнку и есть ли для таких детей послабления при сдаче ЕНТ.
Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению.
– Елена Сергеевна, какие самые ранние и явные признаки дислексии могут заметить родители у ребёнка дошкольного возраста или младшего школьного возраста?
– Чаще всего родители начинают замечать трудности, когда ребёнок уже вовлечён в учебную деятельность. Например, ему тяжело выучить алфавит, цифры или освоить письмо. Ребёнок может запомнить одну-две буквы, но остальные остаются для него непонятными. Часто возникают проблемы с усидчивостью или с концентрацией, ребёнок легко отвлекается.
В дошкольном возрасте такие особенности сложно заметить, потому что общее развитие ребёнка не вызывает подозрений. Явные признаки чаще проявляются в младшем школьном возрасте. Ребёнку сложно научиться читать. Даже если он выучил алфавит и переходит к слогам или словам, он может не понимать прочитанное. Это устойчивая трудность, которая чаще всего становится заметной к третьему или четвёртому классу. Также возникают проблемы с письмом, ребёнок с трудом пишет даже своё имя. В математике ему тяжело выполнять простые действия, такие как сложение и вычитание. Если коррекционную работу начинают вовремя, эти трудности обычно проявляются слабее, но всё равно могут сохраняться.
– Насколько распространена дислексия среди школьников в Казахстане? Есть ли статистика?
– Официальной статистики по дислексии в Казахстане, к сожалению, не существует. Чаще всего таких детей учитывают в группе с диагнозом задержки психического развития, поэтому реальные данные скрыты. В работе мы ориентируемся на мировую статистику. В мире 17–23% населения сталкиваются с трудностями в обучении, связанными с дислексией.
В Казахстане этот процент может быть даже выше. У нас сильно влияет фактор билингвальности. Если ребёнок имеет генетическую предрасположенность, при этом дома говорит на одном языке, а в школе учится на другом, то билингвальная среда может стать пусковым механизмом для проявления дислексии. Это создаёт внутренний диссонанс и активирует трудности с обучением.
В рамках одного исследования, проведённого в восьми школах Атырау и Астаны, мы выявляли детей группы риска – это школьники без ментальных нарушений, но с низким качеством обучения. В каждой школе из примерно 600 детей группы риска у 100 учащихся подтверждалась дислексия. Это около 15–17% при обследовании. При этом ранее у этих детей не было никаких диагнозов или подозрений.
– Если такие трудности замечены, то к какому специалисту нужно идти?
– В системе здравоохранения дислексия практически не рассматривается. Чаще всего даже психиатры направляют детей на дообследование к специалистам, работающим с обучением.
В системе образования ситуация тоже непростая. Дислексия сейчас фактически не признана официально. Это не та проблема, о которой открыто говорят в школах или за которую активно борются. Родители часто пытаются скрыть, что ребёнок не умеет читать или учится с трудом. Поэтому в школах таких детей просто относят к неуспевающим, не разбираясь в причинах. С одной стороны, образовательная система не обращает на это внимание, с другой стороны, сами родители не поднимают вопрос.
Мы работаем над тем, чтобы начать обучать специалистов ПМПК диагностировать дислексию, даже разработали протоколы диагностики на основе международных исследований на казахском и русском языках. Специалисты ПМПК заинтересованы, но поддержки от чиновников профильных ведомств пока нет, для них эта тема не в приоритете.
Если трудности замечены, родителям в первую очередь нужно обратиться к клиническим специалистам. Сначала обязательно проверить слух и зрение. Это важно, чтобы исключить физиологические причины. Иногда трудности с восприятием букв или письма связаны с тем, что ребёнок просто плохо видит или не слышит.
После этого следует посетить психиатра, чтобы убедиться, что интеллект у ребёнка сохранён и его трудности с обучением не связаны с задержкой интеллектуального развития. Если психиатр увидит дополнительные сложности, он может направить ребёнка к невропатологу, чтобы исключить возможные проблемы другого характера. Но в большинстве случаев консультации психиатра бывает достаточно.
Когда физиологические причины исключены, можно обращаться к специалисту по трудностям обучения или к клиническому психологу, который занимается именно образовательными проблемами.
– То есть это именно тот специалист, который работает с дислексией?
– С дислексией должен работать специалист, который умеет её правильно диагностировать и корректировать. В Казахстане таких профессионалов очень мало, на сегодня только три человека, и все они работают в нашей команде, я лично их обучила. Диагноз может поставить только специалист с клинической квалификацией, так как это требует медицинской оценки. Коррекцией занимаются специально подготовленные педагоги и психологи, их немного, но больше, чем диагностов. Даже психиатры направляют пациентов к нам, поскольку не могут ставить этот диагноз самостоятельно.
Клинические психологи, госучреждения, в том числе ПМПК, не диагностируют дислексию – у них нет протокола для этого. Диагностика дислексии – сложный процесс. Нельзя просто дать ребёнку текст и посмотреть, как он читает.
Это глубокое обследование, включающее анализ особенностей мышления и обработки информации. Проблема связана не только с чтением, но и с особенностями мыслительных процессов. Помощь по таким вопросам сегодня предоставляется исключительно в рамках частной практики. Государственная помощь в вопросах диагностики дислексии на сегодняшний день в Казахстане отсутствует.
– И официально в Казахстане такого диагноза нет?
– Официально диагноз "дислексия" в Казахстане существует, но на практике его почти не ставят. Если диагноз подтверждён, ребёнку потребуется специальная программа, в большинстве государственных школ таких специалистов нет. Чаще детям ошибочно ставят задержку психического развития, но это не самостоятельный диагноз, а следствие других состояний. В результате всех детей с разными трудностями обучения объединяют под один диагноз и обучают по общей программе.
Самая серьёзная ошибка в этом подходе, когда ребёнка с дислексией определяют в коррекционную группу и начинают работать с ним, как с ребёнком с интеллектуальными нарушениями. Это только усугубляет ситуацию. В случае лёгкой умственной отсталости у детей таких размышлений, как правило, не возникает. А вот ребёнок с дислексией хорошо осознаёт, что его обучают по программе для детей с серьёзными проблемами, и начинает считать себя глупым. В отличие от детей с реальными интеллектуальными нарушениями, у таких детей развивается сильное внутреннее напряжение и самокритика. Это может серьёзно повлиять на их мотивацию и психоэмоциональное состояние.
А в итоге привести к социальной дезадаптации и создать откат в развитии вместо ожидаемого прогресса. Вначале ребёнок мог нормально адаптироваться в классе, но когда с ним начинают применять неправильные методики, он теряет уверенность, перестаёт справляться и начинает отставать.
– Я правильно понимаю: если известно, что ребёнок дислектик, его и традиционными методами обучать не нужно?
– Это не принесёт успеха и будет только мучать ребёнка. Если диагноз подтверждён, крайне важно создавать для таких детей особые условия для обучения.
В Казахстане есть школы, которые частично перенимают наш опыт, но не полностью адаптируют образовательную среду. Они обучили своих логопедов, дефектологов и психологов, но из-за высокой загруженности с другими детьми полноценного сопровождения дислектиков они обеспечить не могут. В первую очередь их специалисты работают с детьми с речевыми нарушениями.
Сейчас мы активно сотрудничаем со школой в Шымкенте, которая также применяет наши методики. В других городах, к сожалению, партнёров пока нет. В Астане более-менее адаптированными считаются "Бином", "Ривьера" и "Квантум". Они у нас обучались, но насколько у них создана полноценная среда для дислектиков, я сказать не могу.
– А какие методы помощи и коррекции наиболее эффективны для детей с дислексией?
– Самыми эффективными методами коррекции для детей с дислексией являются нейропсихолого-педагогические подходы. Часто люди ошибочно думают, что можно просто купить лекарства и проблема исчезнет. Но на сегодняшний день медикаментозного лечения дислексии не существует. Также нет инструментальных или хирургических методов, которые могли бы исправить эту особенность.
Единственный путь – это правильно выстроенная работа с ребёнком. В коррекции дислексии основными являются три направления: нейропсихология, психология и педагогика. Именно их сочетание даёт наилучший результат.
Чаще всего с ребёнком работают узкие специалисты, которые хорошо знают особенности дислексии. Главное, чтобы они тесно взаимодействовали между собой. Если, например, нейропсихолог не в курсе, что сегодня делал психолог, или педагог не знает, что отрабатывал нейропсихолог, эффективной работы не получится. Важно, чтобы команда работала в постоянной связке и находилась в одном месте, чтобы сопровождать ребёнка комплексно и слаженно.
– Правда ли, что дети с дислексией не глупые, а, наоборот, часто очень умные, просто информация у них обрабатывается иначе?
– Диагноз "дислексия" ставится ребёнку только с сохранным интеллектом. Если интеллект снижен, причина плохого чтения, скорее всего, связана с ментальными нарушениями. У детей с дислексией интеллект обычно даже выше среднего. Мозг дислектика обрабатывает информацию быстрее, потому что он постоянно работает с символами и знаками.
У таких детей восприятие информации проходит в основном через правое полушарие, хотя левое у них тоже активно. Просто путь, по которому идёт информация при чтении, отличается от привычного. Если ребёнку показать правильную стратегию восприятия и научить её применять, он сможет быть вполне успешным.
Часто дети с дислексией, получившие своевременную коррекцию и поддержку, становятся очень успешными. Они раскрываются в творчестве, учёбе, бизнесе, потому что их мышление нестандартное. Они не ограничены привычными рамками и могут смотреть на вещи под разными углами, приходя к выводам, до которых взрослые с академическими знаниями могут и не дойти. Это действительно обнадёживает.
– Могут ли дислексии сопутствовать другие диагнозы? Как часто встречаются чистые дислектики, или у них есть ещё какие-то трудности?
– Чистые случаи дислексии встречаются довольно редко. Мы называем таких детей "золотыми дислектиками". Чаще всего дислексия сочетается с другими диагнозами, особенно с психологическими трудностями или синдромом дефицита внимания (СДВ) – с гиперактивностью (СДВГ) или без неё. Это самые частые сопутствующие сложности у детей.
Если у ребёнка есть ментальные нарушения, то речь уже не о дислексии, а о симптомах, похожих на неё. Сочетание с СДВ или СДВГ усложняет диагностику, потому что их симптомы могут перекрывать проявления дислексии. Например, ребёнок читает с ошибками не из-за дислексии, а из-за невнимательности. Когда ему удаётся сфокусироваться, он читает хорошо.
В начале моей практики я иногда ошибочно принимала симптомы СДВГ за дислексию. Сейчас существуют диагностические протоколы, которые позволяют разделить эти состояния и более точно поставить диагноз. Но в целом дислексия и синдром дефицита внимания часто идут рядом.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью или без неё могут провоцировать развитие дислексии. Ребёнку сложно не только воспринимать символы, но и удерживать внимание. Оба состояния часто имеют наследственную природу. Бывают и патологические случаи, например, когда у ребёнка во время беременности или родов нарушается поступление кислорода в мозг, что может привести к гиперактивности. В таких ситуациях важно лечить первичную причину, тогда дислексия может уйти.
Профилактика возможна, особенно если в семье уже есть дети с дислексией, поскольку в таких случаях родители могут раньше заметить признаки и начать поддерживающую работу ещё до появления серьёзных трудностей. Чем раньше начать наблюдение и сопровождение, тем легче скорректировать развитие навыков чтения и письма.
Во время беременности маме важно много гулять, чтобы обеспечить ребёнку хорошее насыщение кислородом. После рождения стоит развивать слуховое восприятие малыша: игры с шумами, музыкальные игрушки, ритмические упражнения. Полезны занятия, развивающие работу обоих полушарий мозга, например, грудничковое плавание или упражнения, где задействованы обе руки.
Если ребёнок даже немного отстаёт в развитии речи, важно вовремя обратиться к логопеду, чтобы не запустить дислексию. В дальнейшем важно использовать специальные методы обучения: глобальное чтение, мультисенсорный подход, когда ребёнок воспринимает буквы через разные каналы. С правильной профилактикой у младших детей риск развития дислексии может снизиться или проявиться в очень лёгкой форме.
– А можно ли говорить о конкретных случаях, когда ребёнок с дислексией успешно адаптировался, учится, выбирает профессию?
– У моего старшего ребёнка диагностировали дислексию в третьем классе. Она не могла читать и писать, мы с трудом учили даже короткие четверостишия. В начальной школе она с трудом переходила с двойки на тройку. Но после прохождения коррекционной работы и психологической поддержки ситуация изменилась. Она стала среднестатистическим учеником с некоторыми трудностями в языковых навыках, но при этом умела находить другие пути решения, общаться, договариваться и успешно выполнять задания по-своему.
Позже она начала развивать свои сильные стороны и нашла себя в творчестве, особенно в рисовании. Сейчас она учится на третьем курсе колледжа, является одной из лучших в группе. После девятого класса она спокойно продолжила обучение, полностью адаптировалась в академической среде и уверенно справляется с учёбой. Я не переживаю за её будущее. В этом году ей исполнится 18 лет, дочь начнёт жить самостоятельно. Дислексия не мешает ей жить и развиваться, потому что она нашла свой путь и смогла успешно адаптироваться.
Чаще всего ребёнок после качественной коррекции не нуждается в постоянной логопедической, дефектологической или нейропсихологической поддержке. Главное, заложить правильный фундамент в начальной школе. Если база хорошая, то в средней школе серьёзных проблем уже не возникает.
– Расскажите, пожалуйста, чем отличается ваша школа для детей с дислексией и как организован учебный процесс.
– Наша школа сейчас получает лицензию на обучение до девятого класса. Мы открываем классы как на русском, так и на казахском языках. В прошлом году школа работала только на русском и только для начальных классов, но в этом году мы расширяемся, так как родители просят продолжить обучение для своих детей.
Дети с дислексией не могут учиться в больших классах, как в государственных или многих частных школах. У нас максимум 10–12 детей в классе, в зависимости от особенностей группы. Если класс более активный – набираем до 10 человек, если спокойный, можно и 12.
Наша школа – полнодневная. В госдотационном режиме дети учатся с 8.00 до 15.00. По желанию родителей ребёнок может оставаться дольше – это уже как дополнительная услуга.
Мы обучаем по стандартной школьной программе, но адаптируем весь учебный материал для восприятия детей с дислексией. Например, обучение чтению у нас построено не по классическому букварю, а по нашему мультисенсорному учебнику. Мы стараемся, чтобы ребёнок усваивал материал не через учебник, а через игру, практический опыт и визуальные образы, это помогает лучше запоминать.
В школе работает команда специалистов: логопед, психолог, нейропсихолог, а также специалист по трудностям обучения. Каждый из них ведёт индивидуальные занятия с детьми при необходимости. Если ребёнок что-то не до конца понял или не усвоил, он может обратиться к специалисту и доработать материал.
Мы уделяем особое внимание психологическому состоянию ребёнка. Работа с дислектиком требует очень тонкого подхода – любое давление или ошибка могут вызвать сильный стресс. Поэтому наш психолог постоянно находится в контакте с каждым ребёнком. Отдельно ведётся активная работа с родителями, ведь часто взрослые не до конца понимают, как правильно поддержать своего ребёнка. Это очень важная часть нашего подхода.
– Как в вашей школе относятся к оценкам?
– В работе с детьми мы не делаем акцент на оценки. Наша главная задача, чтобы ребёнок понимал: освоил он материал или нет. Такой подход помогает формировать внутреннюю мотивацию, ребёнок стремится освоить навык, а не получить высокую оценку.
Мы не ставим детей в условия соревнования за баллы. Оценки, как того требует система, мы фиксируем, но ребёнку их не озвучиваем в привычной форме. Вместо этого мы говорим: "Сегодня немного не получилось, давай попробуем ещё раз завтра". Ребёнок получает обратную связь только о своих результатах и понимает, над чем ему стоит поработать. Это помогает избежать сравнения с другими и снижает тревожность.
Мы используем опыт коллег из других стран, потому что верим: главное не оценка, а развитие навыков.
– Ставите ли вы перед собой цель, чтобы ребёнок с дислексией со временем мог перейти в обычную школу? Насколько это реально и при каких условиях возможно? Есть ли примеры?
– Подготовить ребёнка с дислексией к тому, чтобы он мог успешно учиться в обычной школе, – одна из наших основных целей. При правильной работе и хорошем фундаменте, заложенном в начальной школе, ребёнок с дислексией вполне способен окончить общеобразовательную школу, поступить в колледж или вуз.
Мы регулярно проводим мониторинг, чтобы определить, готов ли ребёнок к переходу. Наша школа – это тоже общеобразовательное учреждение, но адаптивное, с учётом особенностей детей с дислексией. Важно, чтобы в начальной школе или хотя бы в первые годы средней школы ребёнку дали правильные стратегии обучения. Если он приходит к нам уже после начальной школы, работа требует больше времени, но результат всё равно возможен.
В нашей практике были дети, успешно переходившие в государственные школы. У некоторых детей есть готовность, но родители, зная, какая у нас поддержка и атмосфера в госшколах, часто сами не хотят менять учебное заведение.
В Казахстане пока нет нормативных льгот для детей с дислексией на экзаменах, таких как ЕНТ или МОДО (Мониторинг образовательных достижений обучающихся). В отличие от Европы и США, где, например, дают дополнительное время или используют специальные материалы, у нас такие условия не закреплены. В других странах детям с дислексией могут разрешить сдавать тесты в аудиоформате или на зелёных листах для улучшения концентрации. В Казахстане пока таких адаптаций нет.
Тем не менее дети с дислексией успешно сдают экзамены. В нашей школе есть примеры, когда ребёнок после коррекции показал отличные результаты на тестах, не уступая сверстникам из других школ.
– Что бы вы сказали родителям, которые боятся признать проблему?
– Родителям, которые боятся признать диагноз, важно понимать: отрицание не решает проблему. Пока вы не принимаете особенности ребёнка, вы отрицаете самого ребёнка. Лучше знать, что у ребёнка дислексия, чем оставлять его с диагнозом "ЗПР" без понимания причин.
Многие взрослые дислектики, которые узнали о своей особенности только в 30–40 лет, сожалеют, что в детстве им никто не объяснил, в чём дело. Они рассказывают, что страдали, считая себя глупыми, когда на самом деле у них просто другой способ восприятия информации. Родителям важно задуматься: какое будущее вы готовите ребёнку, если не помогаете ему понять самого себя вовремя.
-
1🥩🥒 Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня пройдет в Астане
-
11674
-
0
-
5
-
-
2📚Частным школам в Казахстане изменят правила игры
-
7693
-
1
-
125
-
-
3💵 Паспорта, удостоверения и права: сколько казахстанцы заплатят за документы в 2026 году
-
2893
-
2
-
15
-
-
4🚌 Новый автобусный маршрут до аэропорта запустят в Алматы
-
2768
-
1
-
15
-
-
5‼️ Ну что, друзья, теперь это можно сделать без очередей. Выбрать госномер для авто по своему желанию теперь можно онлайн в Казахстане
-
2730
-
1
-
12
-
-
6⚠️ Доброе утро! Обзор главных новостей за 16 января для вас
-
2372
-
5
-
6
-
-
7🚗Друзья! На севере и востоке Казахстана из-за непогоды местами ограничили движение по всем направлениям.
-
2555
-
1
-
8
-
-
8🎅Мороз со снегом дошли и до юга Казахстана!
-
2465
-
0
-
12
-
-
9📱 Блогера задержали за вымогательство в Туркестанской области
-
2519
-
3
-
25
-
-
10👵Пенсионная реформа – 2026: какие налоговые льготы и ограничения начали действовать
-
2442
-
0
-
8
-
 USD:
499.1 / 502.1
USD:
499.1 / 502.1
 EUR:
589.0 / 593.0
EUR:
589.0 / 593.0
 RUB:
6.43 / 6.55
RUB:
6.43 / 6.55